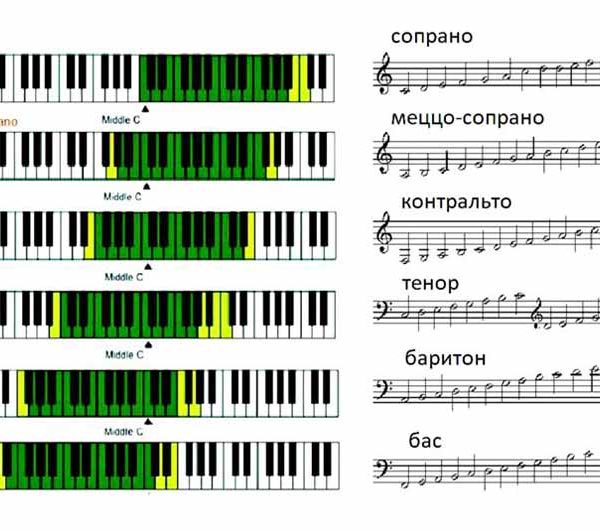Идеальный, с точки зрения европейской музыки XVIII — XIX веков, слушатель главное внимание обращает на интонационную и тематическую материю. Здесь для него — средоточие собственно музыкального. Если он и гурман, то в самом высоком смысле. Ведь он, вникая в смысл каждого поворота мелодии, каждого гармонического нюанса, каждого события тематической разработки, вкушает от святая святых музыки. С ним-то мы и встречались в классах контрапункта, гармонии и формы! Но и он краешком уха следит за содрогающейся звуковой плотью, хотя бы потому, что без воплощения немыслимы ни мелодия с гармонией, ни композиция. Не все слушатели таковы. Не то, например, у поклонников оперного пения. Уж не краешком уха, а всем телом и душой предаются они впитыванию голосовых прелестей. Для них интонация и смысл всей постройки подчас совсем безразличны. Они склонны ограничивать свои суждения в этой области банальными, ходячими фразами, кем-то уже пущенными в оборот. Зато как много говорят им звуки.
Вопрос о специфической природе их осмысленности, значимости связан с трудностями методики исследования, с проблемой «исчислимости» звуковых единиц. Как известно, любая классификация влечет за собой сведение множества неупорядоченных вещей к обозримому числу разновидностей, родов, типов. Слуховой материал музыки, как уже говорилось, противится таким процедурам сильнее, чем какой-либо другой. И это является не менее существенной отличительной чертой звукового слоя по сравнению с интонационным и композиционным. Если по отношению к интонациям еще можно говорить о словаре или фонде, то задача только переписи «фонем», окружающих музыку и принадлежащих ей самой, потерпит фиаско с самого начала. Но в том-то и заключен парадокс всех рассуждений в настоящей книге, что именно подобного рода задачи должны быть поставлены и решены.
Может ли помочь тут лингвистика и опытная в классификациях фонетика и правомерны ли здесь аналогии?
Сравнение музыкальных звуков с фонемами не ново для теории музыки. М. Г. Харлап еще в пятидесятые годы выдвинул идею родства двух систем — фонематической и музыкально-тоновой. Но тогда имелась в виду именно тоновая, а не собственно звуковая материя музыки. Мы же хотели бы называть музыкальной фонетикой — по аналогии с речевой — ту особую часть знаний о музыке, которая касается самых малых ее единиц, то есть самих звуков и звуковых комплексов. Аналогия правомерна. Однако еще существенней различия. Известно, что в речи фонетика уже надстроена над индивидуальными тембрами голоса и его звукопроявлениями в целом — иначе нельзя было бы сформировать ограниченный набор фонем. Алфавиты языков самых разных народов мира фиксируют два-три десятка звуков речи и соответствующих им букв. Звуки-фонемы образуют определенные сочетания и варианты, которые тоже вполне перечислимы, хотя их значительно больше.
Иное дело в музыке. Музыкальная фонетика не может ограничиваться малым набором звуков, ибо ориентирована на индивидуальные звуки, на характеристичность, неповторимость звукового облика.
И все же сравнение не беспочвенно.
Ибо хотя, с одной стороны, музыкальная звуковая материя является скорее лишь подобием языка, каким-то праязыком, и опирается на совершенно иные механизмы усвоения, связанные не только с индивидуальной памятью и прижизненным опытом, но и с опытом живой природы, с генетической информацией, то с другой — все это богатство очеловечено, окрашено важными для социума значениями.
Кроме того, профессиональная музыкальная культура должна была постепенно выработать — в целях передачи ремесла — более или менее ограниченный круг правил, касающихся звуковой материи. К ним прямое отношение имеет, например, учение о музыкальной артикуляции и штрихах. Отсюда идут попытки их систематизации и канонизации.